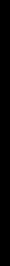Д.Урнов. С тройкой через океан
Американские встречи спортсмена-конника
— Вы собираетесь наконец работать? — спросил Томас Кингсли, на чьей ферме мы жили с тройкой наших рысаков.
Долго терпел он, наблюдая наше типично ипподромное шаманство:
сдувание пылинок с лошадей, проводки в руках под попонами, теплая
водичка по утрам, а главное — не перетрудить работой, лишней ездой! Он
видел, что мы не бездельничаем, толчемся вокруг лошадей с утра до
вечера, но все это было не в его вкусе. Долго терпел Томас
Кингсли-ковбой, но тут не выдержал.
Когда мы с тройкой пересекли Атлантику, на вероятный вопрос: «Что вы
хотели бы увидеть в Америке?» — у меня был готов ответ: «Ковбоев». И
вот неожиданно без всяких предисловий мы оказались с ковбоем лицом к
лицу. Томас вообще был немногословен, но, как это бывает с молчаливыми
людьми, взорвавшись, уже не мог остановиться.
— Поймите меня правильно, — говорил он, — вы конники-спортсмены, а я
ковбой. И лошадь и езду я понимаю как ковбой. Поймите правильно, я не
намерен вас обидеть. Мы, люди Северной Дакоты...
Разговор происходил в Огайо, но для Томаса не существовало ничего, кроме Северной Дакоты, откуда он был родом.
— Мы, люди Северной Дакоты, как все ковбои, грязь допускаем только
на сапогах, а в душе ее не держим и чужой труд умеем уважать. Только у
вас своя езда, а у меня своя. Что лучше, судить не буду. Вам, наверное,
следовало остановиться в другом месте, где есть спортивный манеж, есть
тренеры, которые занимаются этой... этой... — Томас искал слова
помягче, но ясно, что хотел сказать «чепухой».
Все, что ни говорил в таком духе наш хозяин, само собой
воспринималось символически. Ведь он, ни больше и ни меньше, приходился
внучатым племянником Марку Твену! «Не думайте, — обращался он к нам, —
будто я унаследовал сколько-нибудь великого таланта». Этого думать и не
требовалось: и так было видно, что сохранил в себе Томас от той
«породы». Движение большой реки, которое чувствовал лоцман Клеменс
(настоящее имя Твена) и передал в своей прозе автор «Гекльберри Финна»,
ковбой Томас Кингсли, по матери Клеменс, перевел на посадку в седле,
совпадающую для него с позицией в жизни.
— Поймите меня правильно, — воскликнул Томас, — я не хочу всех на
свете заставить ездить по-ковбойски. Только помните, что не спортсмены,
не те, кто теперь ходит с хлыстиками в руках и с важным видом, создали
Америку.
Насколько мы были спортсменами в том смысле, как толковал это Томас,
он, конечно, проверить еще не мог. Однако он настораживался всякий раз,
когда замечал «спортсменство» хотя бы в приемах езды.
— А создали Америку, — говорил Томас, — фермеры и ковбои. Они
приехали сюда из Ирландии, Швеции, Шотландии, Норвегии и из вашей
России. Ты знаешь, сколько старинных русских сел у нас в Северной
Дакоте?
Речь скорее всего шла о духоборах, которые выехали некогда в Канаду
на толстовский гонорар от «Воскресения» и распространились дальше по
Америке. В числе создателей своей страны почитал этих переселенцев,
наших соотечественников, и прямой потомок трудового пионерства, родня
Марку Твену, наш Томас, патетический ковбой.
— Вы думаете, что ковбои это как в кино — паф-паф? Да, еще сейчас
ходят у нас с кольтами у пояса. В Северной Дакоте не ходят, а в Южной
ходят. И стреляют. Только не в людей. Никогда не стреляли ковбои в
людей, как это показывают в кино. Жили ковбои в глухих местах, в город
приезжали редко, но уж если отправлялись куда-нибудь развлечься, то,
возвещая о себе, стреляли в воздух. Кроме того, стреляли в ядовитых
змей, койотов, рысей. Каждая женщина в семье ковбоев умела взять в руки
кольт, чтобы при случае уберечь ребенка от диких зверей. А уж лошади...
Мы говорим: ничто так не греет душу ковбоя, как конская шерсть. Пусть
мой Добрый Гарри не знает ни попон, ни подстилки, ни крыши над головой,
но, когда я привез его с собой сюда из Северной Дакоты и у меня хотели
его купить, я ответил «нет». Никто меня больше ни о чем не спрашивал,
потому что я сказал только «нет». Я сказал «нет», потому что Добрый
Гарри для меня... — у Томаса блеснули слезы, и разговор дальше нельзя
было вести.
Мы с доктором (тройку в Америку мы доставляли с главным ветврачом
Московского ипподрома) дали клятвенное обещание забыть ипподромные
условности, приняв ковбойский образ жизни и езды. Тем более, сказали мы
Томасу, что у нас казачья и кавказская езда многим похожа на
ковбойскую. Прибежала испуганная жена Томаса: услыхав шум и зная
решительный нрав своего мужа, она подумала, что мы подрались. Нет, это
доктор с Томасом хлопали друг друга по плечам.
Тем, кто имел дело с лошадьми, излишне объяснять, что ипподром и
ковбои — это разные миры, хотя, разумеется, всюду лошади, но разные
лошади, а стало быть, люди в каждом случае тоже особые. Томас сквозь
зубы произносил слова «жокей», «тренер»; зато когда в ковбойской шляпе,
которую он мне подарил, я попал на скаковую конюшню, то услышал
презрительный окрик: «Эй, там, в шляпе! Отойди! Здесь чистокровные
лошади...»
Ковбойские лошади называются «куотер», что значит «четвертные», и
потому споры о том, порода ли это, длятся нескончаемо. Название,
впрочем, идет не от состава крови, а от резвости на четверть мили —
четыреста метров, которые эти лошади способны проскакать исключительно
быстро. Но главное, конечно, у них не резвость (сравнивать их с
чистокровными скаковыми невозможно), а подвижность, выносливость.
Происхождение их неведомо.
— От мустангов? — спрашивал я у Томаса.
Он говорил: «И от мустангов». Но ведь, по сути, что такое мустанги?
Потомки диких, вернее одичавших, лошадей, тех, что в далекие времена
отбились от рук у первых колонистов. Мустангов теперь охраняют как
редкость, а еще сравнительно недавно истребляли на потребу индустрии по
производству консервированного корма для кошек и собак. Интересно, что
мустанги — причудливый пример обратной эволюции: вырождения культурного
животного в дикое состояние. Можно вообразить, как были бы мы
оскорблены в лучших романтических представлениях, навеянных легендами о
мустангах, где одни только клички — Белый Павлин или Черный Красавец —
рисуют нечто блистательное, как были бы мы обмануты в своих ожиданиях,
когда б увидели в самом деле мустанга: лохматое и, главное, низкорослое
существо.
В одной журнальной статье промелькнули такие слова современного
мустангера: «Да, мустанг — это вовсе не сказочно ослепительный конь,
горделиво рисующийся на фоне неба. Таким его себе воображают люди. На
самом же деле это маленькая, строптивая лошадка, которой приходится
быть строптивой, чтобы бороться за жизнь».
«Но, по мне, эта лошадь хороша», — говорил тот же мустангер. И
действительно, эти лошади хороши там, где они уместны. Наш Томас,
обосновавшись в Огайо, заразил округу, своих новых соседей и друзей
ковбойскими лошадьми. И соседи не жалуются.
Держать действительно породистую, тем более чистокровную скаковую
лошадь дорого и хлопотно, а ковбойской лошадкой можно заниматься так,
между прочим. Если есть куда ее выпустить пастись, то уж она сама о
себе позаботится.
Конторский клерк, живший от нас через дорогу, возвращаясь с работы
из города, выходил на задворки и начинал свистеть. Минуты через две
раздавался в ответ топот, фырканье — с дальнего конца поля бежала
гнеденькая кобылка. Хозяин ждал ее с кусочком сахара и с тяжелым, как
сундук, ковбойским седлом на плече, купленным в складчину с еще одним
соседом. Конником клерк заделался недавно, он продолжал брать у Томаса
уроки ковбойства, а когда мы с доктором поселились тут же, он стал
бывать еще чаще — в расчете на ветеринарную помощь.
— Доктор, она хромает! — раздавалось у нашего окна вечером, часов в
семь, когда мы уже успевали задать нашим лошадям последний корм, а
клерк только возвращался со службы и садился в седло.
— Ничего подобного, — доктор, устроившись у телевизора, даже головы к окну не поворачивал.
Доктор успел здесь показать, насколько понимает он в лошадях, и
всадник, успокоенный, сразу пропадал за окном. Впрочем, однажды сосед
сделался настойчивее.
— Доктор, доктор, по-моему, она жереба!
— Могу произвести ректальный анализ, — прозвучало из полутемной комнаты между двумя выстрелами с экрана.
— Нет, что вы, доктор! Зачем же так серьезно? Вы просто посмотрите, очень прошу вас!
У дверей возникла фигура доктора, впрочем, тут же исчезнувшая с
такой скоростью, что доктора уже не было, а слова, им произнесенные,
еще звучали:
— На пятом месяце.
Диагноз, повисший, так сказать, в воздухе, новоявленный ковбой
принял с такой же почтительностью, с какой выслушивал чувствительные
наставления Томаса: «Как сидишь? Почему сидишь как кот на заборе? Ты в
ковбойском седле или на манеже?»
Держал ковбойскую лошадь еще один наш новый знакомый — паренек Фред,
лицо тоже в некотором роде характерное, причем не только в связи с
ковбоями и Америкой. Фред для меня завершил целую галерею лиц, первое
из которых увидел я еще в нашем порту, в Мурманске, где начинали мы
свой трансатлантический рейс, ждали парохода и постоянно слышали:
«Начальник порта сказал... Начальник порта приказал...» — и, конечно,
рисовали себе некий облик в соответствии со словами «начальник порта».
В последний день перед отплытием, прежде чем «отдать концы», пошли мы к
начальнику сказать «спасибо» за все его авторитетные распоряжения, но
вместо «спасибо» у меня отвисла челюсть: кому говорить-то? Вместо
«начальчника» перед нами был мальчик! То есть мальчиком выглядел этот
человек, молодой несоизмеримо с делом, ему подвластным.
Мы погрузились на пароход и вышли в открытое море. Покачивало. Я
получил разрешение посмотреть мостик, и тут же меня встретил просто
ребенок, третий помощник капитана, которому вахта выпадала, как
нарочно, ночью. Розовые лица у кормила власти или у руля океанского
судна заставляли меня, звавшегося молодым, чувствовать себя каким-то
обветшавшим праотцем. Я взял себе за правило, как тень отца Гамлета,
являться на мостик за полночь.
Филиппок — именем толстовского мальчика я называл нашего штурмана,
потому что, как вы помните, Филиппок носил отцовскую шапку, налезавшую
ему на уши, а штурману, мне казалось, велика капитанская фуражка, —
Филиппок, совсем один на мостике, вел во мраке океана гигантский
корабль. Он смотрит в бинокль. Он говорит в рупор. Шелестит лоцией.
Если я поднимался на мостик раньше, к девяти, штурман Филиппок как
раз в это время проверял по первым, только что выступившим звездам наше
положение в океане и выглядел особенно маленьким: на ветру, на открытой
площадке, среди вечных валов худенькая фигурка с ушами, оттопыренными
великоватой фуражкой, орудуя какой-то помесью подзорной трубы с
циркулем и линейкой, ловит огромную мерцающую звезду и обращается ко
мне:
— Хотите Венеру посмотреть?
«О, — думал я в ответ, — как монументально пошел бы я ко дну, если
бы мне поручили вести дело подобного размера!» Я спросил у капитана:
что же это, младенец, да еще по ночам, руководит нашим кораблем?
Капитан ответил: «Штурман. Давно плавает». Давно?! Наверное, в этот
морской стаж входят и мокрые пеленки.
Наконец, Фред. В нем, кроме детства, было еще специфически
американское соединение ребячливости со зрелой деловитостью. Отец его
был строитель-монтажник. Сам Фред учился в восьмом классе, а кроме
того, как и многие его сверстники, подрабатывал — на ферме у Томаса. Он
скопил денег, купил телку. Сама по себе телка была ему ни к чему,
просто денег хватило как раз на телку. Фред повез ее в город, показал
на выставке, взял приз, продал. Скопил еще денег и купил лошадь.
Скажете: «Чичиков!» Какой же Чичиков, когда он под широкой шляпой, в
седле и с лассо в руках — Фенимор Купер! Гарри Купер! Именно так и
смотрели на него местные девчонки.
Фред был выделен Томасом нам в помощь, а лишние руки требовались —
рысаки наши за долгую дорогу несколько одичали, хотя в Москве они
прошли руки мастера-наездника, который сам, однако, отправиться за
океан не мог: его ждали большие призовые гастроли в Париже. После того
как без тренировок протянулось почти два месяца, лошадей нужно было
готовить к троечной езде фактически заново и каждую отдельно. Они стали
подхватывать на унос, бояться всякой тени или же делать вид, как умеют
это делать лошади, что боятся. Как их переубедить?
Фред садился верхом на одну пристяжную, я на другую, доктор делал
кореннику индивидуальную проездку в экипаже. Так готовились мы к
публичному выезду. Множество беспокойств владело нами: будущая толпа,
крик, вспышки магния...
...Гужи были, конечно, слабоваты, дуга чуть кренилась на сторону,
поводки уздечек оказались пристегнуты не совсем правильно, но светило
солнце, коренник нес шею картинно, по-лебединому, пристяжные кипели,
медвежья полость сверкала, бубенцы мягко перезванивались, и ярким
пятном мы играли по полю: «словно серые лилии на зеленом лугу», — как
на другой день писали газеты.
А на обычной утренней проездке лошади, чего-то напугавшись, все-таки
однажды понесли. Место было очень уж неподходящее: тут же кипело шоссе.
Левая вожжа запуталась и оборвалась. Некоторое время я тянул вожжи на
себя, почти лежа навзничь, но тут лопнул гуж, качнулась дуга, и
коренник фактически освободился от упряжки. Долго ли можно держать
лошадь на одних вожжах? Раздался удар, толчок, экипаж черкнул землю, я
вылетел, а надо мной, как в приключенческом фильме, пронеслись лошади.
Откуда-то возник черный стремительный автомобиль с надписью-молнией
«Шериф» и с ревом понесся наперерез общему потоку и лошадям. Все, кто
только был на ферме, очутились верхами и тоже полетели стремглав,
соперничая с машинами. Но всех опередил Фред, наш приятель-школьник. Он
поставил «додж» поперек шоссе, наши лошади, волоча за собой остатки
экипажа, оторвали у него крыло, но все-таки замедлили ход, и тут же
один из всадников, спешившись, повис у них на удилах.
Лежа на обочине, я наконец-то почувствовал ту непосредственность
перехода от пафоса к иронии, какая заключена в гоголевской тройке, а я,
заучив хрестоматийные строки со школьных лет наизусть, не мог, в
сущности, этого понять: «И сам летишь, и все летит...»
Позднее, когда происшествие превратилось в рассказы о том, как, кто
и куда бросился на помощь, я спросил Фреда, что скажет его отец про
искалеченный автомобиль.
— Да, — отвечал Фред, — что-нибудь такое он скажет. Ведь он у меня
наполовину валлиец, наполовину ирландец. Представляете себе, что за
смесь!
И правда, дня два мы потом Фреда на ферме не видели...
Через несколько дней мы прибыли в вотчину ковбоев — Техас, в городок
Форт-Уорт, на большую выставку скота, по случаю которой здесь же, на
исконной земле индейцев-команчей, проходило родео, состязание ковбоев.
Все были в шляпах с широкими полями, все верхом, все в кожаных брюках,
словом, это был мир, сошедший со страниц самых головокружительных книг
юности и в то же время абсолютно взрослый, серьезный мир.
Каждый всадник, каждая поза, всякая деталь сбруи или костюма,
невольно подмеченная, пока мы бродили по двору, вокруг загонов и по
конюшням, действовала сразу и сильно. Она была представительна, если
можно так выразиться. Иначе говоря, одна поза или случайная деталь
показывала весь этот мир, самый смак этого мира. Естественно, люди не
позировали нам специально. Они занимались лошадьми, готовили их, мыли,
чистили или же пробовали верхом разные приемы.
Я помню, как в первый раз я увидел Кавказ, Эльбрус, табуны, однако
ярче всего остался в памяти кинжал, который свесился через край лавки,
а на лавке спал старик. Кинжал свесился у старика, словно туфля, как
сигарета через край губы, кинжал был обычен, банален в тот момент.
Стало быть, каков же момент! В случайном кинжале и сосредоточился тогда
для меня весь Кавказ, домашний дух Кавказа.
Так шляпы, сдвинутые на затылок, кони в золотых седлах, запросто
привязанные к забору, — все действовало вспышками, а когда в самом деле
заблистала арена, когда шляпы были щегольски надеты и кони
замундштучены, это казалось уже не столь ослепительно. Поймите меня
правильно, как имел обыкновение говорить наш Томас.
«...Мне приходилось в самом деле стрелять медведей и охотиться на
китов, — рассказывал о себе «отец» Шерлока Холмса Конан Дойль, — но это
все не шло ни в какое сравнение с тем, как я пережил это впервые, еще в
детстве, с Майн Ридом в руках».
Ах, эта книжная предвзятость, мешающая видеть то, что в самом деле
видишь! За Майн Рида, которого все когда-то держали в руках, я чуть
было не поплатился, сидя позднее на Добром Гарри и стараясь бросить
лассо: после Техаса Томас предложил перейти от наглядных к практическим
урокам ковбойства.
Лассо в руках ковбоя — универсальное орудие. Им не только арканят
скот, но ловят змей, медведей. А во времена гражданской войны Севера и
Юга был организован особый ковбойский отряд, вооруженный лассо.
Лассо летит, и мне казалось, конь тоже летит. Поэтому, преследуя
бычка, я пустил веревку и сам устремился за ней. Но вместо полета
получилась сильная встряска, и я удержался в седле только благодаря
высокой передней луке, за которую уцепился рукой. Конь не летит, он,
напротив, едва увидит перед собой веревку, останавливается как
вкопанный, готовясь принять на себя рывок заарканенного животного. Так
приучены ковбойские лошади.
Они также приучены, пятясь, держать веревку до предела натянутой,
чтобы телок, который рвется прочь, не мог подняться на ноги. Ковбой тем
временем давно спрыгнул с лошади и, не заботясь о ней, устремляется к
быку, хватает его за голову или рога, если они у него имеются, валит
его с поворотом на землю, перехватывает руками за пузо, еще раз
поворачивает, придавливает коленом и вяжет ноги, передние и задние. На
родео в Форт-Уорте некоторые всадники успевали все это совершить за
десять секунд.
А лошадь продолжает держать веревку натянутой. Лошадь вообще проявляет во всем в высшей степени сознательное участие.
Быка мне было, конечно, не поймать, но все-таки, сидя на Добром
Гарри, я мог почувствовать, как «работает» лошадь. Отношение к лошадям,
как вообще к животным, отличается у ковбоев ровной разумностью. Нет
резких переходов от ласки к грубости, лошадь не балуют, но вместе с тем
не кричат на нее вдруг, не дергают. В ответ лошадь проникается доверием
к человеку, полностью подчиняется ему и действует заодно с ним.
Естественно, ковбой, подобно нашим горцам или степнякам, подобно всем
людям, чья жизнь и деловой успех в значительной мере зависят от
надежной лошади, знает цену хорошему коню, коню-другу: Он и от ветра в
степи не отстанет, Он не изменит, он не обманет.
Поэтому, когда наш Томас вспоминал своего Доброго Гарри, слезы часто
мелькали у него в глазах. Но так случалось только в разговорах. Ни
слез, ни даже слов нельзя было заметить, если Томас седлал своего коня.
Они работали вместе и, что называется, на равных. С той разницей, что
Томас сидел верхом, а Добрый Гарри носил его на спине. Каждый знал свое
дело и место.
Ковбойский конь проходит целую науку, не только выездку, но еще и
дрессировку; он многое понимает, знает и умеет делать сам, без
вмешательства всадника, без повода и шпор.
Например, требуется отбить, отогнать теленка от коровы, выделить
одну корову из всего стада, поделить стадо и т. п. Человеку не уследить
за всеми уловками животного, ему не успеть, если он возьмется
распоряжаться лошадью сам, направить ее по следу мечущегося быка. И он
предоставляет это делать лошади самостоятельно. Ковбой бездействует,
хотя и продолжает сидеть в седле. Зато лошадь винтом крутится, не давая
быку или корове ускользнуть. Тут свой язык: зверь со зверем.
Именно потому, что лошадь делает все сама, я, не мешая поводом и
шенкелями, сидел на Добром Гарри, пока он преследовал бычка. Надо было
только держаться, успевая корпусом за неожиданными движениями лошади.
Бычок увертывался, а Добрый Гарри, всякий раз, настигая его, подставлял
ему свою оскаленную морду.
Кстати, как вид ковбойских соревнований это входит в программу
родео. Кроме того, там есть езда на быках, ловля молоденьких бычков,
соревнования для девушек и просто цирковые номера вроде дрессированного
бизона. Но гвоздем программы является, конечно, так называемая
объездка, или, точнее, езда на диких лошадях. Все это условно. Лошадь в
действительности не дикая, а, напротив, очень опытная, знающая свое
дело опять-таки прекрасно. Тем труднее усидеть на ней. Дикий неук,
оказавшись под седлом, не обязательно будет сразу бесноваться; он может
стоять, вовсе не двигаясь. А искушенный ковбойский конь, взятый на роль
«дикой лошади», неустанно брыкается, и как брыкается! Брыкается он
неустанно потому, что на него надета как бы третья подпруга, ремень,
опоясывающий круп и пах. Он тревожит лошадь, и лошадь будет бить
задними ногами до тех пор, пока не отделается от помехи. Между тем
уздечка снята, передней луки тоже нет. Ковбой держится одной рукой за
веревку, перекинутую через шею лошади. Вторая рука должна быть свободно
откинута. Он непрерывно шпорит лошадь, подзадоривая ее. За это
насчитываются очки.
Продержаться на беснующейся лошади надо всего десять секунд. После
этого раздается звук рога, и ковбой выбрасывается из седла на арену или
же его подхватывают специальные верховые ассистенты, которые находятся
тут же.
Надо не только продержаться, но и показать лихость посадки: бездеятельный ездок на вялой лошади призов не получит.
Мы видели знаменитого Джесса Джеймса. Этот мерин уже достиг
диккенсовского возраста, то есть ему исполнилось шестнадцать лет. Но в
отличие от того одра, который влачил в шарабане достопочтенного мистера
Пикквика, Джесс Джеймс выглядит совсем свежо и полон энергии. У него за
плечами все премудрости ковбойской науки, и вот теперь, на склоне лет,
он перешел к амплуа «дикой лошади». За прежние заслуги его, конечно,
можно было бы отправить на покой, но в таком случае зрители лишились бы
зажигательного зрелища.
Ковбои, я думаю, должны относиться к этому ветерану неприязненно.
Джесс Джеймс унижает их честолюбие. Прежде чем участвовать в
состязаниях, всадник вносит семьдесят пять долларов в надежде взять как
приз в шесть-семь раз больше. Не обидно потерять свои деньги в
результате борьбы. Но Джесс Джеймс не оставляет претендентам и этого
удовлетворения. Он мгновенно разделывается с ними, как бы говоря:
«Нечего было садиться!»
Абсолютного чемпиона по ковбойской езде Джесс Джеймс выкинул из
седла на наших глазах с такой скоростью, что никто не успел разглядеть,
как, собственно, это случилось. Но, вообще говоря, техника этого
матерого дьявола была следующей: толкаясь сразу всеми четырьмя ногами,
он прыгал высоко вверх. Это называется «козел» и само по себе не так уж
страшно. Но там, наверху, в высшей точке «козла», Джесс Джеймс
умудрялся кинуть задними ногами еще раз. И тут уж удержаться в седле
было невозможно просто по законам природы. За один сезон родео Джесс
Джеймс поставил рекорд: из тридцати всадников на нем не могли усидеть
двадцать девять. Одного, наверное, Джесс Джеймс просто пожалел.
— Джесс Джеймс! Джесс Джеймс! — только и твердил на обратном пути
домой Томас Кингсли, находясь под впечатлением. Потом он восторженно
обратился ко мне:
— А ты хотел бы попробовать такую езду?
Я отвечал:
— Гм-гм...
Источник: http://www.vokrugsveta.ru/vs/article/4565/ |