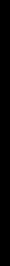По дорогам Америки: Великие равнины 
Степи в Америке — самая середина страны. В географическом смысле
это даже страна в стране — равнина, у «которой есть начало, но,
кажется, нет конца». (Запись безымянного путешественника.) Человек,
открывавший землю, сидя в седле, не мог иначе сказать о том, что
увидел. Даже сегодня, сидя в автомобиле (а в этих местах дозволяется
скорость 130 километров в час), думаешь точно так же.
Географическое чудо степей американцам предстало не сразу, не
тотчас после Колумба. Надо было прорубиться сквозь девственные леса до
реки Миссисипи, чтобы обнаружить эти равнины, пределом которых, как
потом оказалось, служили Скалистые горы на западе, холмы и начало лесов
на юге и севере континента. Назвали находку вполне подходяще — Великие
равнины. Позже легшую под плуги степь назовут «хлебной корзиной» США.
Но в самом начале непочатый дикий район получил название: прерии.
Прерия — это дикая степь. Такие земли были на всех-континентах. Это
районы, где влаги слишком мало, чтобы росли леса, но достаточно для
роста трав. В России это степь, саванна — в Африке и Австралии, пампа —
в Южной Америке, в Азии — цау-юань. О европейских, степях мы можем
иметь представление, читая «Тараса Бульбу» или посетив лоскутки не
тронутых плугом земель-заповедников около Курска и под Херсоном. В
Америке нераспаханных земель тоже осталось немного. И они не могут дать
представление о том, что тут было всего лишь 150 лет назад. В те годы
окраины США — Восток, Запад и Юго-Запад — были уже хорошо обшарены
человеком, а середина на картах была в буквальном смысле белым пятном.

Послушаем людей, которые на повозках и в седлах впервые двигались
по равнинам. Путешествовать по прериям — все равно что плыть на корабле
по безбрежному океану. Никаких ориентиров, ни гор, ни рек, ни дерева,
ни даже кустов. Только травы — иногда низкие, жесткие, иногда же такие,
что виднеются только головы всадников. Определить направление почти
невозможно. Остановившись, ждали захода солнца, чтобы знать, где
восток, а где запад. Сбился с пути — не отыщет никакая спасательная
партия. Если вечером кого-нибудь не хватало, палили из ружей, трубили в
рог, зажигали костры... Отставший не мог ориентироваться даже по следу
— трава почти чудесным образом распрямлялась... На горизонте равнина
смыкалась с небом, и человек оказывался как бы в центре гигантского
круга...
Весною земли цвели. Ветер носил по просторам пьянящие запахи диких
трав. «Земляника тут произрастает в неимоверных количествах. Целый день
мы двигались по земле, красной от земляники». А летом все высыхало, и
прерия озарялась пожарами. «Горе тому, кто оказался на пути летящего
вала огня... Зарево видно за пятьдесят миль. А днем о приближении огня
можно было судить по летящим хлопьям золы и пепла».
Такими были эти равнины. «Редкие случайные вигвамы индейцев — и
снова пустыня», — пишет другой путешественник. Однако слово пустыня не
следует понимать в значении нынешнем. В прериях кипела жизнь, и травы
были ее основой. Мелкие грызуны — кролики и луговые собачки — водились
тут в несметном количестве. Миллионами исчислялись также бизоны и
вилорогие антилопы. Вслед за этими великанами весною с юга на север, а
осенью снова на юг двигались хищники — пумы и волки. В этих местах
благоденствовали нынешние лесные и уже очень редкие звери —
медведи-гризли. У медведей соперников в прериях не было. «Бизоньи
индейцы» — охотники на бизонов, кочевавшие в этих местах, —
предпочитали не приближаться к медведям.
Надо ли говорить, что равнина была заполнена птицами. Луговые
тетерева летали огромными стаями. В небе висели коршуны, ястребы и
орлы. Гнездились и отдыхали перелетные птицы.
Все это — от трав, каждую весну собиравших «урожай солнца», до
огромных медведей, шедших вслед за бизонами, — было сплетено в крепкий
жгут жизни. Одно зависело от другого. И все, умирая, отдавало земле
свое тело. Зола пожаров и мертвые травы, помет и кости бизонов — все
тут копилось веками. Огромной кладовой солнца были эти равнины. Лучший
на Земле черноземный пласт накоплен был именно здесь. И люди это
заметили сразу, как только тут появились. «Прерия — это чудесная,
сухая, светлая страна», — пишет один из первых очарованных странников.
А вот уже слово крестьянина, который нагнулся, сковырнул травяную
корочку дерна и размял в руках комок почвы: «Здешние земли столь жирны,
что пальцы становятся сальными».
И появился плуг! То, что на паре волов можно было вспахать с утра
до вечера, называется акром (0,4 гектара). Эта земельная мера
существует в США и поныне. Сначала редкие фермы, с выбором лучших
угодий, замаячили в прериях. Но год за годом распашка— акр за акром, и
край у Великих равнин показался. Принцип «бери, сколько вспашешь»,
пришлось забывать. Землю стали «столбить» нарасхват, подобно тому, как
в это же время на Западе «столбили» золотоносные участки.
Последней шумной драматической и отчасти комической страницей
заселения прерий была знаменитая оклахомская «земельная лихорадка». В
городе Оклахоме мы без труда нашли памятник этой поре. Между
небоскребами на постаменте — фигуры из бронзы: усталая лошадь, на
лошади — мальчик, отец мальчика забивает колышек в землю. Памятник
поставлен недавно на деньги разбогатевшего тут патриота.
Последний дележ оклахомских земель происходил весной в 1889 году.
До этого южная прерия была убежищем для индейцев, оттесненных и
попросту согнанных сюда из восточной лесистой Америки. «Лесным
индейцам» тут, на открытой равнине, надо думать, жилось неуютно. Но
пришел час, их прогнали и с этой земли дальше, на запад, в пустыни. А
тут, в Оклахоме, прерию размежевали под плуг.

В это время уже не надо было искать хлебопашца. Охотников сесть на
землю было достаточно. На месте нынешних городских небоскребов они
стояли шумным нетерпеливым войском — палатки, повозки, котлы с варевом
над кострами — и ждали сигнала. 22 апреля в полдень грянула пушка. В
клубах пыли, с криками, с гиканьем десять тысяч будущих фермеров,
обгоняя на повозках друг друга, ринулись межевать целину. Сразу же
обнаружилось жульничество — кое-кто забил свои колышки ночью, не
дожидаясь сигнала пушки.
Это массированное и уже алчное наступление на прерии многократно
обыграно в поговорках, прозвищах, анекдотах, романах, фильмах и
опереттах. Оклахома — это страница истории США. На полях именно этой
страницы следует сделать пометку — «конец прерии».
По Оклахоме мы проезжали в момент, когда на массивах созревшей
пшеницы вот-вот должны были появиться комбайны. С юга, из Техаса, по
Оклахоме в Канзас и далее на север, в Небраску, тянется знаменитый
«пшеничный пояс»— самый крупный в мире массив хлебных полей. Король
пшеницы— штат Канзас — как раз середина Америки. На глобусе этому месту
по широте соответствуют срединные части Греции, Турции, у нас — Бухара,
Ашхабад. Наши районы пшеницы лежат много севернее. Но любопытно, что
лучшие урожаи в Канзасе дает как раз пшеница, привезенная сто лет назад
из России, так называемая «красная пшеница».
Прерия стала житницей США, «хлебной корзиной», лучшим
сельскохозяйственным районом. Кроме «пшеничного пояса», есть тут также
и кукурузный район (штаты Миссури, Айова, южные части Дакоты и
Миннесоты).
На юге, в Техасе и Оклахоме, хорошо растет хлопок. В местах очень
сухих и там, где земли начинают холмиться, переходя в лесостепь,
считают выгодным пасти скот. Однако и тут без плуга не обошлось — землю
подняли, чтобы посеять травы. Словом, сердцевина Америки была
распахана, распахана скоро, сноровисто, с уверенностью: «Все
правильно». Возмездие под названием «пыльные бури» пришло в 30-х годах
нашего века. Ветры, для которых на Великих равнинах нет даже маленького
препятствия, раньше гоняли по прерии только пожары, не трогая
задернённую почву. Теперь игрушкою ветра стал плодородный пласт. Черные
тучи земли были подняты в воздух. Засыпая постройки, дороги и пастбища,
черные тучи неслись на восток и достигли Нью-Йорка. Это было, возможно,
самое крупное бедствие за всю историю США.
Просматривая документы, газетную хронику и фотографии того времени,
хорошо чувствуешь: Америка растерялась. Земля в буквальном смысле
уходила из-под ног у людей. И никто не знал, что следует предпринять.
Бедствие на равнинах совпало с экономическим кризисом. То, что вчера
еще с гордостью называли «хлебной корзиной», называть стали с ужасом:
«пыльный котел». Бросая полузасыпанные фермы, люди тронулись вон из
«котла». (На снимках, как во время войны, — беженцы с тачками, старые
«форды» со скарбом на крыше, фургоны времен пионеров. И люди в этих
повозках без всякой надежды на лицах.)
В северо-западном углу Небраски, закусывая в дорожном кафе, мы перекинулись словом с пожилым человеком, жителем этих мест.
— Помните?
— О, как же не помнить! Я тогда бросил ферму в Канзасе. Страшное время. Думали: все, конец...
Положение на равнинах спасти удалось энергичными мерами. Три из них
главные: посадка лесных полос, устройство искусственных водоемов,
консервация пашни! Подчеркнем для тех, кто имеет дело с землей: лесные
полосы, водоемы и консервация пашни. Иначе говоря, было признано: не
все, не сплошь, не везде можно пахать. Незыблемость этих законов, мы
теперь знаем, подтверждена.

Обжегшись на молоке, американцы четыре десятка лет дули на воду. 24
миллиона гектаров земли держались в залежи. Объясняется это, правда,
еще и избыточным урожаем с пахотных площадей. Но экономические
трудности последних лет, а также растущий спрос на пшеницу на мировом
рынке побудили американцев снова пахать «от межи до межи». «Пыльный
котел» 30-х годов, разумеется, многими не забыт. Но люди так уж
устроены, они снова селятся у вулкана по мере того, как извержение
забывается.
Два дня дороги по северной части равнины, по штату Южная Дакота и
по Небраске... Тут мы впервые узнали, что в Америке есть тишина и
безлюдье. Остановишь машину — слышно шмелей, слышно, как на холме
фыркают лошади и как свистит в травах суслик. После суеты и сумятицы на
Востоке это было что-то совсем непохожее на Америку. Пасеки у дорог без
пасечников. Небольшие стада коров без пастухов. Бензоколонка, у которой
почему-то нет человека. Пять минут ожидания — человек, вытирая руки о
джинсы, наконец выходит из домика по соседству. Не спешит, с аппетитом
дожевывая что-то.
— Здравствуйте, незнакомцы...
Интонация неторопливая. Так же неспешно идет заправка машины.
— Скучновато?
— Пожалуй, так...
— Тянет туда, где погуще людей?
— Пожалуй, нет.
Возраст у собеседника — чуть более тридцати. Лицо обветренное.
Глаза и джинсы — одинакового полинялого синего цвета. Кожа на губах
шелушится. На голове вместо обычного форменного картузика — широкополая
шляпа. Пояс — с гнездами для патронов. Винтовка — видно в окошко —
висит в конторке, чуть закрывая прикладом портрет красавицы из журнала.
— Койоты одолевают?
— Да, в этих местах нельзя без ружья, — по-своему понимает вопрос заправщик.
— А этот поселок... Много людей?
— Теперь двадцать шесть — на прошлой неделе родился ребенок, и
вчера вот в брошенном доме поселились индейцы. Вон у порога дремлет
старик...
Ветерок шевелил белье на веревке, петух за колонкой голосисто
созывал кур. Индейцы мальчишки по пустынной дороге самозабвенно катали
старые шины.
— Тут и родились?
— Да, вот там, за холмами...
Пока мы возились в багажнике и снимали мальчишек, старожил Дакоты
украсил шляпой колышек у колонки и, дымя сигаретой, прилег на траве
подремать.
— Счастливо!..
Снятая с колышка шляпа описала над головой хозяина полукруг.
— Счастливой дороги!
«Население штата — 3,3 человека на километр», — прочли мы в
дорожной книжке. Но даже эти «3,3 человека» куда-то исчезли.
Пространства за рекою Миссури были безлюдны. Если бы не вездесущая
колючая проволока, означавшая, что землями все же кто-то владеет, и не
бетонный дорожный холст, можно было подумать, что Колумб всего недели
четыре назад обнаружил Америку.
По законам, вполне объяснимым, население США в самом центре страны
— наиболее редкое. Глядя на карту, невольно думаешь: Соединенные Штаты
словно вертели в какой-то бешеной центрифуге. Людей разнесло по краям.
А в центре (стержень вращения проходит где-нибудь в штате Канзас) людей
осело немного.
Но это штаты-кормильцы, это глубинка Америки. В здешних местечках
гнездится все, что входит в понятие «старомодность», «провинция»,
«захолустье». Однако при нынешнем пересмотре жизненных ценностей
обнаружилось: именно тут люди еще сохранили здоровый вкус к жизни. Тут
еще сохранилась желанная тишина, воздух тут не пропитан бензином,
вполне прозрачен, в нем еще держатся запахи трав и цветов. Темп жизни в
этих местах не достиг состояния лихорадки. Тут самый здоровый климат в
стране. Работа у людей по большей части всегда на воздухе, и, вполне
естественно, именно тут обнаружены долгожители США. Считают, что на
равнинах живут тугодумы, для которых «семь раз отмерь...» — закон
жизни. При разного рода опросах институты общественного мнения
непременно направляют сюда людей — «взять пробу с глубинки».

У штата Южная Дакота на равнинах особое положение. Земли начинают
холмиться, появляются островки еловых и сосновых лесов. Земли для пашни
тут оказались малопригодными. И хотя Дакота выглядит, конечно, иначе,
чем сто лет назад, все же именно здесь можно почувствовать некую
первозданность земли.
Плавно, с холма на холм, стелется холст бетона. Третий день едем —
и по-прежнему степь. Горизонт временами так отдаляется, что полоску
слияния неба с землей почти невозможно уловить. Одеяло горячего воздуха
над дорогой блестит, как стекло. Обогнавшая нас машина плывет в этом
плавленом воздухе, виден даже просвет между колесами и бетоном. Новый
гребень дороги — новая даль.
Для всего живого в этих местах важен не столько слух, сколько глаз.
Плавно, распластав крылья, патрулируют землю два коршуна. На холме у
дороги столбиком замер суслик. Далеко видно всадника — гонит бурое
стадо коров. Глаз невольно следит за этим плавным движением по равнине,
очень похожим на цветную рекламу сигарет «Мальборо». Вот всадник для
завершения сходства собрался, кажется, закурить. Нет. Не покидая седла,
всадник выстрелил из ружья — белый дымок, а потом сухой отрывистый
треск. Становимся на обочине передохнуть и узнать заодно: кого пугнул
от стада пастух.
Минут через десять с полсотни коров и всадник уже близко от дороги.
Машем ему картузом. Подъехал. Подтянутый, загорелый, но для рекламы
«Мальборо» явно не подходящий: минимум на четверть индеец, бельмо на
глазу, и вообще вид совсем не героический. В седле держится, однако,
очень уверенно. Взгляд вопросительно-настороженный.
— Извините, просто дорожное любопытство. По кому стреляли?
Парень с видимым облегчением улыбается.
— Койот... А я подумал, зовете — значит, стряслось что-нибудь.
— Попали?
— Нет, попугал. Днем этот зверь осторожен.
— Свое стадо?
Парень помедлил с ответом.
— Вы с побережья?
Встречный вопрос обнаружил какой-то наш промах. Видимо, полагалось знать, что у этого парня своего стада быть не могло.
— Я просто работник. Хозяин сюда приезжает раз в год. Вместе клеймим коров...
Два-три вопроса о дороге и о погоде, взаимное «извините» — и вот
уже всадник и красная лошадь на серебристо-зеленой равнине опять
превратились в романтический образ для покупателей сигарет.
И снова автомобиль прессует тугие пласты пахучего воздуха. О стекло
разбиваются пчелы и мошкара. Большая мышь проворно перебегает дорогу и
скрывается в травах. Позже, в июле и августе, эти места побуреют и
поскучнеют. Появятся тут стожки — запасы сена на зиму. Кое-где —
остатки прошлого года — они и сейчас бурыми клецками плавают в травах.
Сейчас, в конце мая, зеленый праздник в степи. Жирно блестят полосы
сеяных трав, а там, где плуг земли не касался, зелень имеет серебристый
оттенок. На ощупь травы тут жесткие, с колючками и полынью. Тот же
матово-серебристый цвет видишь в низинах, где пробегают крики — мутные,
торопливые, к середине лета иссякающие ручьи. Однако влаги в этих
степных морщинах хватает для древесной растительности. Она-то — ивы и
тополя — наполняет низины мерцающим серебром листьев... Кладка через
ручей. Потерянная и надетая кем-то на сук рукавица. Перевернутый ржавый
автомобиль. Проселок, уходящий от шоссе к горизонту. Колючая проволока.
Это следы присутствия тут людей. Но сейчас ни души! И все-таки кто-то
живет на земле. Дымок. Приземистая, едва различимая постройка у
горизонта. Жеребенок на холмике сосет черную кобылицу...
Остаткам индейцев великодушно пожаловано это жизненное пространство
к западу от протекающей степью Миссури. «Индейцев в Южной Дакоте
проживает 25 тысяч, больше чем в любом другом штате Америки», —
добросовестно поясняет дорожная книжка. На карте индейские резервации
обозначены желтой краской и черным пунктиром. Наша дорога проходила как
раз у такого пунктира, и мы заехали в резервацию.
Об индейцах рассказ особый. А сейчас вернемся на шоссе 90, ведущее
нас на Запад. Остановимся у ответвления в сторону резервации. В этом
месте мы встретили два необычных дорожных знака. На одном нарисован
башмак, а надпись поясняла, что тут проходила «Большая Пешеходная Тропа
индейцев». Другой знак был украшен головою бизона, «кольтом» и
индейской трубочкой мира. Надпись «Олд вест трейл» путникам объясняла:
это старая дорога на Запад. «Бетон пролегает там, где когда-то на диких
землях в повозках с брезентовым верхом, запряженных волами, двигались
пионеры-переселенцы». В этой же книжке приводились знаменитые фразы —
надписи на памятниках, установленных тут, на равнинах. На памятнике
волам: «Из следов наших копыт родились ваши автострады». На монументе
ковбою: «На пепле моего костра рожден этот город».

О больших миграциях по равнинам дорога в Южной Дакоте напоминала
нам не однажды. Подобно тому, как на Востоке Америки напоказ держат
старые пушки, крепости и постройки, тут, на равнинах, главный предмет
старины — повозка. В маленьких городах и местечках, у перекрестков
дороги, у закусочных и мотелей, у магазинов и даже бензоколонок
непременно видишь воловью повозку. Перекусив у дороги, американцы с
удовольствием сажают на повозки детишек, да и взрослые на минуту-другую
не прочь поменять место в автомобиле на сиденье под брезентом.
Называется это «ощутить свои корни».
Но дорожный спрос на историю удовлетворяется не только показом
транспорта пионеров. В музейчиках у шоссе можно увидеть, как в те, не
столь уж далекие, времена одевались, в какой посуде и что подавалось на
стол, что курили, из чего стреляли, чем землю пахали. Музеем владеют,
как правило, какие-нибудь старик со старухой, не способные заработать
на жизнь чем-либо иным. Обветшалых людей легко принимают за ходячие
экспонаты. Им и вопросы задают в такой форме, как будто старая леди и
ее спутник жизни, ходящие в шлепанцах по музею, сидели в прерии у
костра, бывали в стычках с индейцами.
Заглянув в один очаг старины, в остальные можно и не заглядывать. И
все-таки, подъезжая к Миссури, мы уступили призывам желтых щитов:
«Большой музей Дикого Запада. Загляните!»
Музей держит сокровища в двух деревянных ангарчиках за городом
Чемберленом, на восточном берегу Миссури, как раз в том месте, где люди
в повозках стояли лагерем и, осеняя себя крестом, переходили западный
рубикон — переправлялись через мутную, неприветливую, свинцово-холодную
реку.
У входа в музей нас встретил хозяин в ковбойской шляпе, в сапогах с
высокими каблуками, с ковбойским ремнем и ковбойской улыбкой. Очки
добавляли этой фигуре нечто и от учености. Страдал хозяин дефектами
зрения или, быть может, облик встречавшего был «спроектирован»? (Такое
в Америке — дело нередкое.) В музее «учености», впрочем, не
наблюдалось. Все та же кунсткамера. На видном месте стояла скульптура
свирепого вида индейца, стояло чучело зебры, старый протез ноги из
липовой древесины... Но было видно: собиралась коллекция рукою
заботливой и дотошной.
Доллар за вход мы уплатили кассиру, мальчику лет двенадцати с
испитым, желтым, как воск, лицом, с не по возрасту грустным взглядом.
Ковбойская шляпа только подчеркивала его болезненность.
— Сюда, джентльмены, — махнул он на дверь, — тут начало осмотра.
Пеструю ярмарку обычных, но вызывающих сегодня любопытство вещей
мысленно можно было разложить по «полкам времени». Вот старый щербатый
котел; шомпольное ружье; огромный, с тарелку, компас в медной оправе;
подковы и стремена; клейма для лошадей и коров в виде сердечек,
восьмерок, треугольников и кружочков; видавшие виды седла; лассо;
воловье ярмо; капкан; шкура медведя; натуральная трубка индейца и
веревка, на которой вешали осужденных; примитивный плужок. Это начало —
эпоха повозок, костров, смелых охотников, непокоренных индейцев и
первых борозд на равнине. А вот предметы уже пустившей тут корни жизни.
Чугунная «буржуйка», колючая проволока, звезда шерифа, наручники,
шестизарядный кольт, портрет знаменитого в этих краях бандита,
старинный утюг, мясорубка, похожая на сундук фотокамера, бормашина,
манекен телефонистки, сам аппарат — дедушка нынешних телефонов...
Экспозиция продолжалась на улице. Тут можно было увидеть подлинный
домик поселенца на Западе, ветрячок-водокачку, школьную комнату, в
которой мог бы сидеть Том Сойер. (Большая железная печка, столы на
литых металлических ножках, клавесин, глобус, портрет Вашингтона на
стенке и пучок длинных розг на столе.) Далее в длинном ряду стояли
огромные бочки, мельничные жернова, колокол для сигнала «обедать!»,
замысловатых конструкций самогонные аппараты. Старину завершали конная
молотилка и трактор марки «Фордзон».

Вернувшись под крышу уточнить какую-то запись, мы вдруг услышали за спиной робкий голос кассира.
— Простите, джентльмены, вы, наверное, не американцы?..
Узнав, в чем дело, мальчик пошел вместе с нами, и только теперь мы
поняли: это вовсе не мальчик, а человек лет восемнадцати-двадцати, но
которому суждено маленьким и остаться.
— У меня щитовидка, — привычно, чтобы все сразу поставить на место,
сказал он и с жадным любопытством стал расспрашивать о нашей поездке.
— А что сейчас, вот в это время, у вас в России?
— Тоже весна, так же тепло...
— А зимой в Москве холодно?
— Примерно так же, как тут, в Дакоте.
— Да, у нас зимы очень холодные... Я вот мечтаю побывать во Флориде.
«Мальчика» звали Грей Олсон. Выяснилось, что хозяин музея не тот
человек в очках и ковбойской одежде, а он, Грей Олсон. Мать с отцом
(фермеры Джин и Дин Олсоны) собрали все это для него, младшего сына. А
престарелый «ковбой» у входа был всего лишь служителем, точнее
«дядькой», опекавшим этот ковчег старины и его пожизненного владельца.
«Дядька» (Джон Питерсон), заметив, что мы разговариваем, подошел,
приветливо поздоровался.
— Из Советского Союза? О, прекрасная идея побывать тут у нас, на равнинах!
Своего подопечного он дружески обхватил руками за плечи:
— У кассы люди...
Когда Грей отошел, «дядька» прикрыл глаза, грустно покачал головой:
— Такая судьба. Это все мать для него собрала...
У входа в музей мальчишки, визжа от восторга, кормили печеньем
большого вола. Взрослые снимали друг друга на фоне повозок. С грустной
улыбкой глядел на шумную кутерьму несчастный хозяин музея, вышедший
вместе с «дядькой» нас проводить...
В машине мы говорили о его матери. Можно представить, сколько
бессонных ночей было у этой крестьянки, хорошо понимавшей: здешняя
жизнь ласкова только к богатым, удачливым и здоровым. Что придумать для
сына? Наверное, она благодарит всех богов за счастливую мысль об этом
музее. Собранная по окрестным фермам и свезенная в одно место ржавая,
пыльная рухлядь для нее, конечно, дороже Лувра и Эрмитажа. Да и знает
ли мать, что есть где-то Лувр? Олсоны — фермеры. А фермер... Что видит
фермер, кроме своей полоски земли?
В заключение экскурса в старину стоит сказать: многих американцев
одолевает романтический зуд «бросить все и по путям предков пройти
равнину на повозке в одну лошадиную силу». (Буквальная запись в беседе
с одним из романтиков.) Однако равнины пересекают не иначе как сидя в
автомобиле. И все же, подобно тому как в океан время от времени
пускаются на плотах, тут, на великих просторах суши, появляются чудаки
на повозках. О них, разумеется, пишут в газетах, их видят по
телевидению. Молва об одном из Них, Оливере Расселе, на крыльях журнала
«Америка» залетела и на пространства Евразии. С больших снимков глядели
две лошади и шесть человек, сидевших в повозке под полотняным верхом —
сам Оливер, его жена Джин и четверо симпатичных босоногих мальцов.
Сообщалось, что строительный рабочий из штата Огайо семь лет собирался,
обсуждая поездку с друзьями, и наконец за тысячу долларов соорудил
фургон, приобрел лошадей. И поехал.
«Щадя лошадей, Оливер проезжает в день не более 30 километров.
Когда надо их подковать, он превращается в кузнеца». Рассказ в журнале,
как тому полагается быть, подернут розовым цветом рекламного счастья.
Где-то на полпути Оливер будто бы заявил журналисту: «Это замечательная
поездка... Всю жизнь свою я не чувствовал себя таким свободным, как
сейчас». «Пионер XX века» собирается распрячь лошадей на побережье
Тихого океана и сделаться фермером в Орегоне.
Наша дорога проходила по местам, где ехал Оливер. Полагая, что
человек этот действительно интересный и может рассказать что-нибудь
более существенное, чем приведенные журналом фразы; мы навели справки:
добрался ли Рассел Оливер до океана и нельзя ли связаться с ним хотя бы
по почте? Никто, однако, не знал, как закончилась шумная одиссея.
(Америка скоро забывает сенсации.) Но в газете «Вашингтон пост» мы
отыскали заметку под заголовком «Крытый фургон — незваный гость».
В конце пути, проехав за 81 день 2800 километров, Рассел Оливер
рассказал журналисту столичной газеты: «Мы измучены и в отчаянии...
Были хорошие встречи с людьми. Но постепенно мы стали встречать
равнодушие и враждебность... Кормя для лошадей осталось на два дня.
Пошел добыть — передо мною захлопнули дверь. В местечке, где собрались
заночевать, нам отказали: «Езжайте дальше». Я ведь без денег. Хотел
устроиться на работу, но мне отвечают: «Катись!» Нас принимают за хиппи
и за бродяг. Почему? Волосы у меня не длиннее, чем у других, со мною
жена и четверо ребятишек... Скорее всего лошадей продадим, а фургон
сожжем. Была мечта. Теперь ее нет». Такая история.

Острее всего безбрежность и пугающую пустоту равнин мы
почувствовали в последний вечер перед тем, как увидеть отроги Скалистых
гор. Сразу же после столбика «Штат Небраска» шоссе пошло под уклон.
Сзади, из штата Дакота, наползала сизовато-черная туча. Зловещей,
оседающей книзу скобкой она по наклонной горке опускалась на степь.
Пристегнувшись ремнями, мы выжали из машины все, что в нее заложили
конструкторы. Но туча не отставала. Ярко-красный разлив заката,
светивший нам в ветровое стекло, окрасил наседавшее сзади чудище в
зловещий сизовато-пурпурный цвет. Казалось, там, сзади, кинь сверху
камень — и все прорвется, обрушится на притихшую землю.
В каком-то богом забытом местечке, без единого человека на
единственной улице, светился огонек лавки. Мы забежали купить сигарет и
что-нибудь пожевать на ходу.
— Скорее, джентльмены, скорее! Я уже приготовилась закрывать.
Хозяйка лавчонки подала нам пакеты сушеной картошки и, торопливо захлопнув дверь, трусцой побежала по жутко пустынной улочке.
Ни грома, ни малейшего звука. Зловещая тишина и быстро оседающий
мрак. На предельной скорости мелькнула мимо машина. И мы сразу же —
вслед за ней, за ее тревожно-мигающим огоньком! Бетон дороги, изоляторы
на черных телеграфных столбах, одинокий белый домишко без огонька,
прежде чем потонуть в темноте, сделались ярко-красными. На черном, если
глянуть назад, эти красные пятна и красная ровная лента дороги были
зловещим вызовом грозовой ночи. Такие спектакли Природы наблюдаешь лишь
изредка...
Тучу мы обманули. Мы резко свернули. И шоссе 20 понесло нас прямо
на запад, к исчезающей на глазах полоске зари. А туча чиркнула пузом о
землю в стороне, в темноте, слева. Отблески молний. Гром. Треск в
приемнике, рвущий на части какой-то легкомысленно-нежный мотивчик.
Ночь. Ни единого огонька ни справа, ни слева. Только впереди на
дороге — красный рубин, летящий с такой же скоростью, как и наша
машина...
В мотеле на краю крошечного городка было душно. Мы настежь открыли
окна и двери. Окна выходили прямо на заросший бурьяном пустырь. Запах
отмякшей полыни и диких цветов сразу же вытеснил застоявшийся воздух
жилья. На свет полетели мохнатые бабочки. Пришел на свет открытых
дверей и хозяин в нижней, небесного цвета, рубахе, в подтяжках.
— Душновато...
— Да, вечерок тихий...
Мы были единственными постояльцами двенадцатиместного мотеля.
Хозяин жил бобылем и рад был случаю перекинуться словом. Узнав, как мы
бежали от тучи, он понимающе улыбнулся.
— Я сам бывал в таких переделках. Сейчас еще рано, а вот в июне —
июле бывает такое, буду рассказывать — не поверите. Стакан видите? Так
вот, градины такого размера я видел сам. Железные крыши дырявило, как
бумагу. А однажды читал, будто в Канзасе падали градины по три фунта.
Старожил Небраски если и привирал, то очень немного. Великие
равнины — место знаменитых в Америке степных ураганов. Известные всем
торнадо — гигантские вихри, способные, как пушинку, поднять повозку,
корову, даже дом вместе с хозяином, способные, как былинку, согнуть
стальные мачты электролиний, с корнем выдернуть дерево, осушить речку,
проносятся именно тут, на Великих равнинах.
Уже проезжая на юге равнин, в Оклахоме, мы поняли: дакотская туча,
от которой удалось улизнуть, была всего лишь началом летних равнинных
ливней и ураганов. 9 июня газеты США сообщили о бедствии в городке
Рапид-Сити. (Он остался северо-западнее нашей дороги.) Сообщалось:
«Город снесен ураганом и ливнем. Число жертв пока неизвестно, но, как
видно, их более сотни».
Несколько дней главной новостью телевидения и газет были новости из
Дакоты. Уже через день стало ясно: погибло 500 человек. Но цифра росла.
«Людей находят мертвыми в автомобилях, в завалах глины и на деревьях.
Мертвых ищут с собаками. 700 домов совсем перестали существовать, 1700
разрушены очень сильно».
15 июня мы смотрели по телевидению драматический фильм, заснятый в Дакоте. «Погибло тысяча сто человек!» — сообщил диктор.
Таковы эти тихие с виду равнины, лежащие в самом центре Америки,
между, Миссисипи и барьером Скалистых гор, между лесами на севере и
лесостепью на юге, в Техасе.
В. Песков, Б. Стрельников
Источник: http://www.vokrugsveta.ru/vs/article/5211/ |